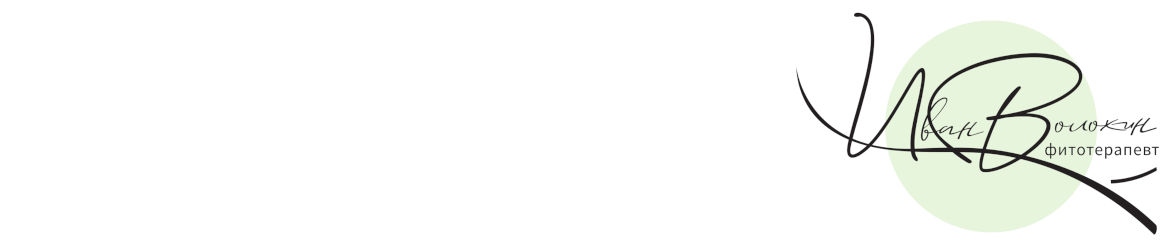Год назад я влюбился в Венецию. Буквально сразу. Вот только ступил на набережную — и всё. И ни порывы ледяного ветра, погнавшие меня в ближайшую лавку за утеплёнными перчатками, ни морская туманная взвесь, забирающаяся глубоко за воротник, вдоль позвоночника, опускаясь до самых кончиков пальцев ног, выстужая драгоценное тепло, — ничто не смутило этого первого трепетного чувства: моё.
Нечто подобное я испытал к Санкт-Петербургу, глядя на заходящее солнце, подсвечивающее своими розовыми лучами башню Петропавловской крепости и набережную и мост на ней. Вокруг — весна. И Питер не пожалел хорошей погоды, и мне было четырнадцать, и жизнь только зацветала. Вот тогда-то тоже отозвалось: моё. Одно время я даже мечтал переехать жить в город на Неве. Однако, со временем желание переезда прошло, а нежное чувство любви к северной столице — осталось.

Встречи с Венецией я ждал год. Пойти в ближайшее туристическое бюро, купить тур и прилететь — это слишком просто. Это значит променять путешествие на туризм, потерять смысл, лишить момент магии. Значит совершить предательство по отношению к себе. Событие должно само себя сложить. Должны сойтись планы, даты, брони и аренды, договоренности и встречи, — и вот ты — как бы невзначай, случайно — снова оказался тут: здравствуй, дорогая моя Венеция. Как же я рад.
Надо сказать, она встретила нас уже снисходительно, по-свойски: день был ясный и тёплый, солнце даже грело. Вернулись, дескать, ну ладно, — я тоже вас люблю. Глядите — какая я красивая! — а когда город тебя принимает, это чувствуется. Ты уже не бежишь, сломя голову, а обращаешь внимание на детали, из которых складывается жизнь.

Вот, например, хорошо выстиранная скатерть, вывешенная сушиться на веревке, натянутой между домами, — своим узором и цветом попадает в общую композицию так, что не назвать это чудом — нельзя. Садись — и пиши маслом по холсту.

Или чайка, усевшаяся на голову статуе святой Марии, держащей младенца Иисуса на руках. Рядом — кошка. Ей хочется то ли чайку изловить, то ли на голову к Марии сесть, — она ещё не решила, но лезет. Чайка, заметив свою популярность у фотографирующих её туристов, начала позировать, поворачиваясь то одним боком, то другим. Профиль и фас. И с заду, конечно, снимите. Несчастная, ослепнув от вспышек фотокамер и избыточного внимания, чуть не угодила в лапы кошки.
А тут — выход из чьего-то дома, своим порогом соприкасающийся с водой. Рядом припаркованы две лодки, залезать в которые не удобно — надо сделать большой шаг, подтянуть её ногой, а потом — прыг! — и плыть по нужному адресу. Я живо представил себе, как лет триста назад какая-нибудь дама, собираясь на званный ужин, припудривая свой парик, налаживая многослойные юбки из крепдешина с кринолином, разглаживая кружева и сложные плетения, подкрашивая ярко лицо, — бокальчик, другой, — опрокидывала в себя шампанское. Так принято было: разжечь искорку в глазах, теряемую в замужнем быту и семейных делах (способ, кажется мне, популярен и сегодня). И вот вышла она, двумя руками цепляясь за скользкий от влажности фасад, а ногой подтягивая к себе плавсредство, да как грохнется в водную пучину, запутавшись в складках роскошного наряда. Венецианская медуза. Пять часов сбора, напудренный парик, намалёванное лицо, грудь, старательно уложенная в тугой корсет, — всё прахом. Хоть живая вылезла — и то хорошо. Какой там бал? А говорил же муж: «Mio tesoro, не пей на голодный желудок, прошу тебя. Развезёт же!» — развезло. Лодкой — ноги.

Венеция — живая сцена, сотканная из тайных и явных сюжетов, врастающих друг в друга, переплетающихся плотной массой человеческих судеб, удерживающих на плаву этот город. Драмы и трагедии, любовь и надежды, вера и разочарования, — всё это топливо для её жизни. Иначе среди моря не выжить никак.

Ну а когда же солнце село, уступив место густому туману, разлившемуся белым холодным молоком, заполнившим собой улицы и переулки, разогнавшим озябших туристов греться по барам и ресторанам, — Венеция изменилась до неузнаваемости. Она помолодела. Лет на триста. А, может, — и на все четыреста.
Казалось, что сквозь рассеянный туманом свет фонаря покажется он, Казанова, отправившийся на площадь Сан Марко в кафе «Флориан» выпить напитку из обжаренных кофейных зёрен и, если свезёт, сманить в свои объятия очередную доверчивую диву. А там ему всегда везло. Место-то особенное, видавшее в своих стенах и Гёте, и Байрона, и Диккенса, и Пруста. Там же пили свой кофеёк Хемингуэй, Бродский и Стравинский. Пили, думаю, и чего-нибудь покрепче, ввалившись туда вот точно-таким же промозглым вечером — согреться и послушать живую музыку, черкнуть мысль в блокноте, познакомиться, скоротав ночь в чьей-то компании. Под утро, озябнув, опрокинуть еще чарочку и — домой, спать.
В богатых, но душных интерьерах «Флориана», битком забитых разномастным народом, я впервые за несколько лет выпил кофе — фарфоровую мензурку с темной жижей, которой хватило ровно на пол глотка. Мол, авторской рецептуры. Вкусно, как и везде в Италии. Но тут — весомо. Не в каждом кафе просиживал свои портки Жан-Жак Руссо, например, — не в каждом.

С какой стороны она откроется ещё? покажет ли чего? удивит ли? подпустит ли ближе или — забавы ради — запутает в своих лабиринтах? напугает чёрт знает какими видениями? — неизвестно. Однако, Венеция — моё. И в этом я не сомневаюсь.